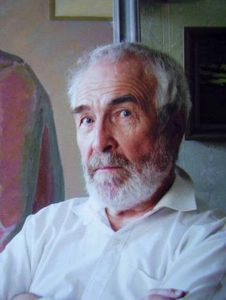Голубеет невинный цикорий
Голубеет невинный цикорий
Вдоль разбитых российских дорог,
Как надежда, что, хоть и не вскоре,
Но развеется бремя тревог,
Перебесятся тёмные силы,
И засветят опять с высоты
Вековечные звёзды России ―
Голубые глаза доброты.
ВЕНЕЦ
(начало Симбирска)
Жара. Толкотня мошкары.
Дурманяще пахнет травой.
Задумчиво смотрит с горы
Боярин Богдан Хитрово.
Зелёный лесной косогор
От птичьих оглох голосов.
Он смотрит на волжский бугор,
На синие дали лесов.
Дружинники ставят шатёр,
Валежник несут для костра.
…Какая крутая гора!
Какой неоглядный простор!
Какая краса и покой!
Вот так бы застыть и смотреть,
Как по-над великой рекой
Густеет закатная медь.
Спокоен небес окоем
Во весь величавый разлёт,
Но чёрной соринкой и в нём
Внимательный коршун плывёт.
Вот то-то! Обманчива тишь.
Никто не предскажет, когда
Ты с визгом опять налетишь,
Чумная степная орда.
Затем и трудился допрежь,
По горло хлебнув маеты,
Чтоб выйти на волжский рубеж
Карсунской засечной черты.
Довольно коситься на степь!
На этом крутом берегу
Замкнётся великая цепь
Заслонов лихому врагу.
А может, в седле я дремлю?
Неужто нашёл наконец
Надёжное место кремлю –
Трудам достославный венец?
Вся Волга с такого Венца
Открыта, куда ни гляди.
Врасплох ни с какого конца
Не явятся вражьи ладьи.
Да чья же безумная рать,
В каком ослепленьи своём
С востока осмелится брать
Крутой неприступный подьём?
А глянешь на западный склон –
Природа могучей рукой
И там протянула заслон,
Разлившись Свиягой-рекой.
Нагруженный всадником конь
Едва ли махнёт в глубину,
А всех, не ушедших ко дну,
Приветит пищальный огонь.
Отколь супостат ни ударь –
Ни подступа, ни переправ.
Отпишем – и сам государь
О том возликует, узнав.
…Комарики к вечеру злей,
И нам подкрепиться не грех.
“А ну-ка, Никишка, разлей
Бочонок медвяной на всех!”
В КОЛОМНЕ
Июньской синью благосклонной
Во весь бескрайний окоём
Разлилось небо над Коломной,
Над Троицким монастырём.
Как раз под этими стенами
(Уже за шесть веков тому)
Князь Дмитрий взвил святое знамя,
Чтобы рассеять злую тьму.
Бойцов Руси, на смерть идущих,
Почти что зримо видишь здесь…
Но тьма, клубящаяся в душах,
Неистребима и поднесь.
Она всё шире, всё зловещей
Вползает в слабые сердца,
Где деньги – бог, где идол – вещи,
Где гогот в очи мудреца.
А наверху над этим срамом,
Над обмелевшею рекой,
Над городком, над божьим храмом
Плывёт возвышенный покой.
***
Михайловскому женскому монастырю
Людская память сохранила
И, как святыню, сберегла
Архистратига Михаила
Богоподобные дела.
Верховный пламенный воитель
Надёжней каменной стены
Хранит небесную обитель
От посягательств сатаны.
Архангел с взором непреклонным,
С румянцем девственных ланит
Он предстоит пред божьим троном
И тайны промысла хранит.
…А в наших землях, средь долины
Под вновь воздвигнутым крестом
Трудами русской Магдалины
Стоит архангела престол.
И было дивное виденье
Владыке Проклу неспроста,
Что знаком Божьего веленья
Поверх высокого креста,
Обозревая оком властным
Наш мир, греховный и земной,
Светился юноша прекрасный
С двумя крылами за спиной.
Он как знаменье вышней славы
Отметил взглядом эту ширь…
Так пусть твои не меркнут главы,
Благословенный монастырь!
ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ
В предсердье российской столицы,
Над краем осклизлого рва
Подобно волшебной Жар-птице
Взметнулся собор Покрова.
Он ярок и дерзко узорчат,
Безудержен, как соловей,
И тонкие носики морщат
Эстеты чистейших кровей.
А что ему книжные стили –
Он сам себе мера и суть.
…Под ним торопливо крестили
Стрельцы покаянную грудь.
И головы клали на плахи,
И рвался над площадью плач,
И в яростно красной рубахе
Умело работал палач.
И, челюсти стиснув до боли,
На этот чудовищный смотр,
На корчи задушенной воли
Глядел несгибаемый Пётр.
И храм словно тенью покрылся,
И смеркли златые кресты,
Как будто собор устыдился
Некстатной своей красоты.
А были и раньше минуты,
Что лучше б и не вспоминать:
Позор затянувшейся Смуты,
Поляки и тушинский тать.
Он помнит (от правды не деться,
От горечи не уберечь)
Мохнатые шапки гвардейцев,
Развязную галльскую речь.
Военной науки новатор,
Пробор расчесав по утрам,
Угрюмо косил император
На вычурный варварский храм.
Когда ж он был поднят с кровати
(«Мон сир… всё пылает… увы…»),
Тот скалился, как поджигатель,
На фоне горящей Москвы.
Всё было – и не позабыто.
Россия осталась жива.
Отцокали вражьи копыта,
Отстроилась снова Москва.
Ушли времена лихолетья.
Проворный московский народ
Спокойно бродил всё столетье
У Спасских и прочих ворот.
Но кануло время покоя,
В забвенье ушла благодать.
Нежданно свалилось такое,
Что Боже не дай увидать.
Уже не французы, не ляхи –
Свои убивали своих.
Погоны да бант на папахе –
Всего-то отличья у них.
Сбивали орлов золочёных
С торжественных башен Кремля,
Жгли храмы, ссылали учёных,
Хозяев забыла земля.
И с горькой немой укоризной
На этот кровавый раздор,
На эту безумную тризну
Глядел величавый собор.
Под сенью кровавого флага
Глухие составы везли
В могильные дали ГУЛАГа
Сынов этой горькой земли.
Застенков железные лапы –
И сталинских строек размах…
Этапы, этапы, этапы –
В Сибири и в календарях.
…И снова гудят перекаты
В запруженном русле страны;
Бесстыжие снова богаты,
А честные снова бедны.
Обрушен недремлющий Феликс,
Сменился названий набор,
Но, как несгораемый Феникс,
Всё ярче пылает собор.
Он выше раздоров – и ныне
Его величавая стать
Велит не поддаться унынью,
Мешает растерянным стать.
Как меч, вознесённый из ножен,
Как колокол тот вечевой,
Крестами сверкнёт: переможем!
Стеной прогудит: не впервой!
И если всё горше и плоше
Та смесь, где и дёготь, и мёд,
Придите на Красную площадь –
Он ждёт вас. И верю – поймёт.
ПРОЕЗЖАЯ ДОНБАСС
Сильнее времени закона
Под небом не было и нет;
И оплывает террикона
Хеопсовидный силуэт.
Пускай не каменные плиты,
А горы бросовой руды,
Но снизу те же лабиринты,
Аида мрачные ходы.
И там, где нечисть табунится
От света божьего вдали,
Есть неоткрытые гробницы
Несчастных узников земли.
Их ни торжественные маги,
Ни заклинанья на стене,
Ни расписные саркофаги
Не провожали в мир теней.
В глухих норах подземной ночи
Конец ужасен и нелеп;
Но лучше сразу взрывом в клочья,
Чем вдруг услышать скрежет скреп
И видеть, как кора земная,
Глухая к воплям и крови,
Металл соломою сминая,
Смыкает челюсти свои…
…Оглянешься к окну вагона ―
Что это там закрыло свет? ―
И вздрогнешь, встретив террикона
Заупокойный силуэт.
КРЕСТ
В толчее городской суматохи,
Где одно мельтешенье окрест,
Под ухмылку бесстыжей эпохи
Водружён искупительный крест.
Вновь обвисло прекрасное тело,
Но вокруг не смятенная тишь,
А несутся авто оголтело,
Помечая владельцев престиж.
На боку та же самая рана,
Только сколько вокруг ни гляди –
Нет ни матери, ни Иоанна,
И вовек не придёт Никодим.
Только мчатся и мчатся машины,
А подальше, в потоке людском
Мчатся женщины, дети, мужчины,
Не взглянув ни единым глазком
На худые пронзённые руки,
На жестокость гранёных гвоздей…
Вновь он послан на крестные муки,
И, наверное, эти – больней.
***
Спешно пыль оттирают с икон,
Спешно вспомнили веру Христову,
И уже потекли косяком
Аппаратчики к Божью престолу.
Стыд их очи пустые не съест.
С видом истовым и благочинным
По тактически мудрым причинам
Над пузцом имитируют крест.
Даже тут они могут кривить,
Но я верю до финишной точки,
Что не сможет их ложь отравить
Этот животворящий источник,
Что поверх этих шустрых голов,
За толпою проныр и подонков
Голубые глаза куполов
Видят чистое племя потомков.
ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ
В буднях ли, в вихре ль решающих дней,
В громе ль орудий –
Крест ваш всегда был других тяжелей,
Честные люди.
Там, где пройдоха юлил горячо,
Ноя о чуде,
Вы подставляли судьбу и плечо,
Честные люди.
Не кочевряжились вы, развалясь:
Дай, мол, на блюде.
Сами свергали неправую власть,
Честные люди.
Гибли в гражданской, вздымали страну
В грохоте буден…
Только помехой вы стали Ему,
Честные люди.
Дед мой, как было тебе тяжело!
Кто твои судьи?
Как же вас много тогда полегло,
Честные люди.
С чёрных тех списков сквозь дикий нарост
Лжи, словоблудья
Вновь засияли вы в полный свой рост,
Честные люди.
С Запада двинулись ужас и смрад.
Собственной грудью
Вы защитили Москву, Ленинград,
Честные люди.
Пули свалили вас, к счастью, не всех.
В майском салюте
Ваши смешались и слёзы, и смех,
Честные люди.
На повороте сегодняшних дней,
В жизненном гуде
Вы нам дороже всего и нужней,
Честные люди.
***
Хоть затыкаем уши
Мы от журчанья Леты,
Щурим глаза от грубых
Взмахов того серпа, –
Все мы в объятьях душим
Завтрашние скелеты,
Все мы целуем в губы
Завтрашние черепа.
Помнить об этом – страшно,
Но вспоминать полезно,
Дабы не раздражаться
Попусту на людей:
Ведь перед чёрной башней,
Перед отвёрстой бездной
Некогда препираться –
Эллин иль иудей.
Дворник и губернатор –
Все там равны, поверьте.
Там не дают почёта
Звания и чины.
Древний мудрец недаром
«Помни, – сказал, – о смерти»;
Вечности дни несчётны,
Эти же – сочтены.
И сочтены, под старость
Думаем, скуповато,
Время с годами резко
Вдруг набирает ход.
Сколько ещё осталось? –
Смотрим подслеповато;
А впереди – завеса,
Кончился наш поход.
Нам не промчаться в строе,
Не услыхать: «По коням!»,
Конь ковыляет еле,
И на боку седло.
От эскадрона – трое,
И командир – покойник,
Видно, и в самом деле
Время от нас ушло.
Юных зовут победы,
Юным горят рассветы;
Гривы коней колыша,
Юные вскачь летят.
Зря им отцы и деды
Шепчут вослед советы –
Юные их не слышат;
Впрочем – и не хотят.
***
По всей Земле стоят больницы,
И каждый день, и каждый час
Их окна хмуро, как бойницы,
Глядят на беззаботных нас.
И нет у каждой на фасаде
Напоминающей доски,
Что это крепости в осаде
Страданий, боли и тоски.
Тревожат нас пустые вещи:
Найти, поспорить, раздобыть;
А там один вопрос зловещий
Витает: быть или не быть?
Там каждый – маленькая Троя,
Хоть этот бой незрим и тих,
А боль – она больнее втрое,
Когда отрезан от своих;
Как часто мы юдоль страданий
Сторонкой метим обойти:
«Мол, дома ждут без опозданий,
И вообще не по пути…»
И на поминках, пряча взоры,
Остаток грусти смыв вином,
Подхватываем разговоры
О нашем, бренном, о земном.
…Но, прячась от чужого горя,
Не спрячешь собственный конец…
Не зря, не зря: «Memento mori…» –
Сказал неведомый мудрец.
***
Светлой памяти Лилечки
Я силуэтом этим
был издали очарован.
Как же, подумал, слитны
молодость и краса.
Шла незнакомка гордо
сквером по Гончарова,
И не ползла за нею
чёрная полоса.
Сзади лучи июля
плечи её палили;
Шла, как царица полдня,
лилия среди трав.
Светит в лице улыбка
ближе и ближе… Лиля?!
Мне ты несла улыбку,
издали опознав.
Пара приветствий тёплых –
и разминулись трассы.
Что же беседы краткой
не прожурчал ручей?
Что ж я не проболтался,
как ты была прекрасна
Гордой красой горянки,
карим огнём очей?
Как вы дружили с Сашкой!
Как все на вас глазели!
Облик твой в наших душах –
на вечные времена!
Ах, почему по курсу
той роковой «Газели»
В небе не полыхали
грозные письмена?
Это непредставимо –
тут же немеет разум,
Сердце колотит в горло,
дыхание перекрыв.
Только одна надежда –
что всё это было сразу:
Грохот, огонь и жизни
юной твоей обрыв.
…Вновь забирает небо
умных, красивых, лучших.
Если же непосилен
новой потери гнёт –
Значит, на тёмном небе
звёздочки новой лучик
Лилиным карим глазом
трепетно нам блеснёт.
***
Те же блёстки, что в детстве,
На пушистом снегу,
Но от возраста деться
Никуда не смогу.
Не отыщется средство
Возвратить хоть на час
Новогоднее детство,
Блеск доверчивых глаз,
Ждущих доброго чуда,
Что по праву дано;
А когда и откуда –
Да не всё ли равно?
Тех снежинок мерцанье,
Переливчатый блеск
Были как обещанье
Этих самых чудес.
Вот и схлынули годы,
Потускнели глаза,
Но привычка природы –
Обещать чудеса –
Слава Богу, осталась,
И глаза молодых
Снова блещут, и старость
Грустно рада за них.
ПЕСНЯ ПОД ГИТАРУ
Я в туман ухожу без огней.
Не ищите меня, не ищите.
А на сколько годов или дней –
Я не знаю; уж вы не взыщите.
За кормой хлопотунья-вода
Вьёт свои волокнистые нити.
Может быть, ворочусь я сюда,
Может, нет – вы меня извините.
Не зовите под кровли свои –
Не нуждаюсь я в вашей защите.
Ветер, волны, леса, соловьи –
К ним иду я; меня не ищите.
…Я в туман ухожу без огней.
Не ищите меня, не ищите.
А на сколько годов или дней –
Я не знаю; уж вы не взыщите.
ПОТЕРЯ
Жил да был человек не спеша,
Пил умеренно, ел до отвала.
Раз проснулся: а где же душа?
А душа с ним и не ночевала.
В гардероб заглянул, под кровать,
Осенило уже на балконе:
А зачем её, дуру, искать?
Без неё даже как-то спокойней.
Он вернулся и заново лёг,
Снились хрусткие пачки в кармане;
А душа, золотой уголёк,
Затерялась в холодном тумане.
***
Часы, отрава наших дней,
Куда вы мчитесь, железяки?
Какие знаменья и знаки
Вас подгоняют всё сильней?
Вы равнодушны к молодым,
И им плевать на вашу спешку;
Лишь нам, лишь нам она в насмешку –
Побитым, тёртым и седым.
За что? А впрочем, вы правы:
Мы тоже были молодыми
И в сладком хмеле головы,
В её кружащем лёгком дыме,
В раздольном поле трын-травы
Подсмеивались над седыми,
Бубнящими про ямы-рвы,
Что ждут нас где-то на дороге,
Что не туда нас носят ноги,
Что зря не думаем о Боге
И что на финишном пороге
Промолвим: как они правы!..
ДОРОГА НА ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК
Как всегда, толчея, разговоры,
Но, качнувшись, автобус пошёл,
Волоча за собою просторы
И заплатки безрадостных сёл.
Здесь когда-то петлёй на аркане
Проносился кочевников шквал;
Не забыл ли их стёртый веками,
Полынком зарастающий вал?
Ну, а разве забудем об этом
И в довольство своё не причтём,
Что кибитка с великим поэтом
Этим самым катила путём?
Отодвинув сатин занавески,
Он, к окошку подавшись плечом,
Видел те же холмы, перелески…
Что он думал? О ком и о чём?..
Этот вал был, конечно же, выше,
Гребнем змея вдоль тракта лежал.
Я не верю, что Пушкин не вышел
И на спину его не взбежал.
А вот здесь, у Тагая, всем скопом,
В полной мере предвидя беду,
Дружно рыли сельчане окопы
В роковом сорок первом году.
Все хлебнули горячего лиха,
Пусть сюда не добрались бои…
Здравствуй, Пластова мать – Прислониха!
Славьтесь, серые крыши твои!
Буйство зелени, праздник природы;
Лето только вступает в права.
На задворках цветут огороды,
На лугах – молодая трава.
Холм покат, как спина у слонихи,
Вон и стадо пестреет на нём…
Но глаза у певца Прислонихи
Не зажгутся азартным огнём.
Что-то шепчет речная осока,
Ветер грустно коснётся лица…
Крест дубовый вознёсся высоко
Над последним покоем певца.
Присмирев, ненадолго затихнув,
Вновь глазеем в окошки свои;
И Языково скоро окликнет
Тёмным облаком парка вдали.
***
От русской лени нет щита.
Пока состав не взял разгона,
Уныние и нищета
Ползут за окнами вагона.
Как будто всё ушло на дно,
И ничего уже не жалко:
Забор – название одно,
В саду – бурьян, в овраге – свалка.
Но разгоняется экспресс
И вырывается на волю.
Вдали полоской – синий лес,
И обступающее поле
Простор разматывает свой
И кружит каруселью бравой:
Налево – стрелкой часовой
И против часовой – на правой.
Ни гор, ни замков, ни озёр,
Ни шумной пыли водопада
Не ищет благодушный взор –
Ему напора их не надо.
Полей немеряная гладь –
Ни бугорка, ни речки даже –
И всё же глаз не оторвать
От немудрящего пейзажа.
И размягчается душа,
И глохнет боль сердечных ранок…
Как ты, Россия, хороша –
Пока не встретишь полустанок.
РОВЕСНИКУ
Наслаждайся покоем –
Он не так уж и част.
Ты средь тех ещё, коим
Бог, надеюсь, воздаст.
За прямую орбиту,
За нелживый глагол,
За смирение быта,
За некрашеный пол.
За деньгой не гонялись
С полыханием лиц –
Наши птицы вздымались
Много выше синиц.
Нас уж мало осталось,
Довоенных мальцов;
Нам серьёзная старость
Засмотрелась в лицо.
Смотрит, не отпуская
Из сегодняшних дней,
В коих алчность людская
С каждым часом видней.
Видно, жаль расставаться,
Распускать этот полк –
Тех последних, в чьих святцах
Было вписано «долг».
* * *
Надежды изменчивый фетиш,
Куда ты в итоге ведёшь?
Всё реже ровесников встретишь,
Всё гуще кипит молодёжь.
Как веселы юные боги!
Чрезмерно? Бездумно? И пусть,
Пока не наплыли тревоги,
Пока не окутала грусть.
Посмейтесь, пускай без причины,
Покуда весёлость дана;
Ещё посекут вас морщины,
Ещё побелит седина.
Ведь скажут хлебнувшие лиха
Из тех, что постарше меня,
Как было спокойно и тихо
В преддверии чёрного дня,
Как были беспечно закрыты
Глаза их в безоблачном сне…
А «юнкерсы» и «мессершмитты»
Гудели уже в вышине.
КИЖИ
Птица белая счастья
обронила перо.
Подобрал его мастер,
улыбнулся хитро.
– Сотворю красотищу –
как поклялся, сказал
И перо к топорищу
бечевой привязал.
Чайки белые кружат,
где-то плещет весло.
В свежем запахе стружек
это лето прошло.
И над тихой равниной,
в заозёрной глуши
Вырос храм несравненный,
песня русской души.
Льётся тихая ласка
от неяркой зари.
Озаряется сказка,
её свет – изнутри.
Рвутся люди в то место,
едут издалека.
Имя мастера – Нестор –
сохранили века.
Где вы, белые крылья,
легкий промельк пера?
Волны серые скрыли
след того топора.
Но людей и доныне
греет сказки добро.
Где-то в облачной сини
вьется это перо…
МОЙ ГОРОД ЗЛОСЧАСТНЫЙ
Мой город злосчастный
над волжскою кручей!
То курят тебе фимиам,
то клянут.
Ты крепкий орешек:
здесь Разин могучий
Повержен.
Отсюда помещичий кнут
С пеньковой верёвкой
гульнул по России –
Напомнить, чья сила
и воля тут чья…
Сто лет протекло,
и опять голосили
Дворянские дочки
в руках мужичья.
И в угол забившись
от пристальных взоров,
Угрюмо из клетки
косил Пугачёв
На то, как вертлявый,
бессонный Суворов
При въезде в Симбирск
обмахнул горячо
Знамением крестным
промокшие плечи:
Злодея в пути
не отбили – а тут
Надежное место,
и уж недалече
Царицын суровый
и праведный суд.
Уж нет того дома
с глубоким подвалом,
Откуда дорога
под верный топор…
Мой город! Клянут тебя
в крупном и в малом,
Но прежде всего
тебе ставят в укор
Дома, где окладистый
жил просветитель
С женою не самых
российских кровей.
Но мог ли предвидеть
почтенный родитель
Конечный прицел
молчунов-сыновей?
Мой город злосчастный,
когда тебя хают,
Когда тебе лепится
чья-то вина,
Я слышу, как Муза
печально вздыхает
Над ликом
чеканного Карамзина.
Уж ей ли не знать –
а удел её вечен –
О неком свидетельстве,
самом простом?
Уж ей ли не знать,
что мой город отмечен,
Как очень немногие,
божьим перстом?
Понуры Екатеринбург
и Самара,
И Киев стозвонный,
и тихий Ирпень,
Что не промелькнула
вдоль их тротуара
Курчавая, неуловимая тень.
Не салютовали парадные пушки,
Лишь ветер на миг
прикоснулся к кудрям,
Когда из кибитки
выскакивал Пушкин
В объятия новых
друзей-симбирян.
За умной беседой,
за шумным застольем
Смеялся он, вспыхивал,
хмурился… жил!
И, брякнув коротким
дорожным пистолем,
Счастливых девчонок
по залу кружил.
Лукаво шутили
безвестные боги
И, дважды подсунув
какой-то изъян,
Назад возвращали
поэта с дороги
В радушные стены
к симбирским друзьям.
Мой город, отмеченный
в пушкинской жизни,
Несет в себе этот
серебряный звон,
И рот закрывает
любой укоризне
Один лишь сверкающий
этот резон.
ПЕСНЯ
За белым окошком метель завывает,
Поёт, навевает кручину-печаль.
Старушка поёт – и себя забывает,
А барин всё пишет – бумаги не жаль.
На ней армячок от проезжей купчихи.
Хоть слабо, но греет – иначе беда.
Намедни – в Тагае; вчера – в Прислонихе,
А нынче, как раз до метели – сюда.
Языково манит и певчих, и нищих –
Здесь баре простые, к тому же чудят:
Голодных накормят, согреют винишком,
А ты только пой им, что знаешь, подряд!
И слушают так-то прилежно и пишут,
А то переспросят – и заново пой.
Да как не запеть под такую-то пищу –
Неделю тут барствовал Минька-слепой.
Уж песен он знает – набрался от бабки;
Та тоже могла – целый день напролёт.
Мальчишки, бывало, в лапту или в бабки,
А он всё на голос – где кто-то поёт.
И, бают, его наградили изрядно;
Вертался домой – сам себя торопил.
В смазных сапогах и в рубахе нарядной,
Да только, поди уж, давно всё пропил.
…Старушка поёт, забываясь всё чаще,
А барин то чёток, то вроде пятна;
А вот он который: меньшой или старший,
А, может, и средний – не знает она.
РИМ
О, вечный город, неужели вправду
Мы свиделись и это был не сон?
Не видел я родимую Непрядву.
Зато бродил над Тибром, как Назон.
Да, было лето: праздная толпа,
Снующая пестро и неустанно…
Да было ль это? Жаркий пот со лба
И утоленье жажды из фонтана,
Что помнит топот кованых калиг
И пурпур триумфальной колесницы…
Я опускал смущённые ресницы
И понимал, что никакой кулик
Не вправе поминать своё болото
Средь этих циклопических руин,
Где каждый камень, что твоя квартира…
О, как ты был уверен, что один
Ты был и будешь властелином мира –
Не меньше! Этот неземной масштаб,
Размах твоих чудовищных строений
Спустя тысячелетья не ослаб…
Какой же ужас чуял пленный раб,
Вступающий в черту твоих владений!
…Когда он через силу разгибал
Свою, ярмом истерзанную шею –
С каким смятеньем взгляд перебегал
С толпы на то, что высилось над нею!
Необозримый купол Пантеона,
Перешагнувший реку акведук
Ломали гордый и смятенный дух
Сильней, чем мерный топот легиона.
Питомца хижин, тёмных и убогих,
Пугали эти, рвущиеся ввысь,
Дворцы, колонны и терзала мысль,
Что люди в белом – несомненно, боги,
И что солдаты служат тем богам,
И о спасеньи быть не может речи…
…Кругом стоял многоголосый гам,
И Солнце жгло израненные плечи.
Он брёл, по крови собственной скользя,
Гонимый плетью и небрежным жестом;
Как жаль, что поменяться нам нельзя
Хотя б на миг и временем, и местом.
Я впрягся бы в палящее ярмо,
Охлёстанный бичами и позором,
Чтоб было увидать ему дано
Слезами счастья ослеплённым взором,
Что начисто куда-то сметены
Когорты воинов неумолимых,
Что вместо грозной крепостной стены –
Гирлянды фруктов нежатся в витринах,
И что Молох насилья и войны,
Ненасытимый город сатаны,
Заполучил своё – лежит в руинах!
ПАРИЖСКИЙ КЛОШАР
Ты паришь,
А не просто стоишь на земле,
О, Париж,
Серый жемчуг в предутренней мгле.
Ты на шар
С превосходством взираешь земной,
Как клошар,
Что, как герцог, сидит предо мной.
Он – король
(Ни малейшего «эгалитэ»*);
Эту роль
Поручил ему старый Ситэ.
Он могуч,
И ручища его – ого-го;
Он дремуч
И всклокочен, как старый Гюго.
Сколько в нём
Осознанья, что он – словно Рим;
Не кивнём,
А восторженно-тупо воззрим.
Закури –
И его угостить не забудь.
«Лёмкири»** –
Толстым пальцем он ткнёт себя в грудь.
…На чело
Его смотрят химеры Нотр-Дам.
Ничего,
Что пройдём мы по вашим следам?
* Равенство (фр.)
** «L,home qui rit» – «Человек, который смеётся»
(роман В. Гюго)
***
Когда толпа вопила слепо
И крови жаждал дикий вой,
Когда пророк из Назарета
Поник прекрасной головой –
Сквозь неба треснувшие скрепы
Пахнуло гарью грозовой.
Но небо чернь не волновало:
Мы на земле, в конце концов –
И одобрительно кивало
Кольцо сановных мудрецов.
«Распни его! Отдай Варавву!
Он наш, он тоже из толпы –
Такой же, как и я и ты…
А этот – по какому праву
Витать неволит в облаках?
“Люби врагов, отдай рубашку…”
Таким безумцам дай поблажку –
И вечно будешь в дураках».
Ликуйте! Жив рецидивист,
И крест влачит невинный, горбясь.
Но отчего вверху навис
Угрюмый плащ небесной скорби?
Вот-вот померкнет небосвод,
И побледневшего Пилата
Охватит ужас: о, народ,
Придёт, придёт к тебе расплата!
***
С киосочных ландриновых обложек,
Смущая даже тёртых и седых,
Сверканье голых попочек и ножек
Мальчишкам перехватывает дых.
Незрелое сознание тревожа,
Немыслимо открыты и близки,
Темнеют треугольные межножья,
Топорщатся бесстыжие соски.
Всё то, что век от века укрывалось,
Что было тайной тайною двоих –
На глянцевых обложках раскаталось –
Сам дьявол разбазаривает их.
А за стеклом – улыбчивая тётка
С радушием китайского божка;
И хочется сказать предельно чётко:
– Кому ты служишь, глупая башка?
***
Страна гудит, как разорённый пчельник,
Но благостно глядит на небеса
Морщинами изрезанный отшельник,
Которому до смерти полчаса.
ЛЕТО 1941 г.
В роковом июле
Ныли комары.
«Я вернусь, мамуля!» –
Крикнул от горы.
В роковом июле
Пуля сбила с ног.
Что ей, этой пуле –
Не её сынок.
К полю потянули
Косяки ворон.
Было в том июле
Не до похорон.
***
Мой ровесник, седая башка,
Довоенного выпуска кореш,
Говоришь: наша доля тяжка;
Но с историей разве поспоришь?
Всё в сравнении: нашим отцам
Наша участь – ленивое барство;
Пострашнее над ними бряцал
Шаг истории и государства.
Кто попал под него – тот навек,
Если жил – то уж лучше бы помер,
Ибо был уже не человек,
А замызганный лагерный номер.
Не попавшие – дома тряслись,
В институтах, штабах и на стройке:
Не подъехали б, не добрались
Далеко не романсные “тройки”.
И в войну… Мы так были малы
И хранимы заботами близких…
Вдалеке прокатились валы
По земле, что с тех пор в обелисках.
Это их поколенье в аду
Крови, пламени, грязи, увечий
На горбу протаскало беду,
Что свалилась на род человечий.
Из тех самых чудовищных лет
Нам ни часа не пало на плечи:
Каждый миг думать: жив или нет?
Чем детей накормить? Часто – нечем…
Так что рано, приятель, стонать:
Не окопы вокруг, не больница…
Лучше вспомнить про батю, про мать
И, хоть мысленно, им поклониться.
ИНВАЛИД
Я сначала подумал: «Он пьяный»
И оскалил насмешливо рот,
Наблюдая немыслимо странный,
Приседающий, дёрганый ход.
Вот шагнула нога торопливо,
Но, с движением её не в ладу,
Тело всё избоченилось криво,
А рука описала дугу.
От хозяина жест независим,
И, усталым глазам вопреки,
Чередуется чопорный книксен
С шутовским воздеваньем руки.
Так какие жестокие боли,
На каком невозможном краю
Сотворили, товарищ, с тобою
Эту страшную шутку свою?
Отчего ты так маятно бродишь
В этот час по аллее глухой? –
Может, в доме своём не находишь
Места рядом с цветущей снохой?
Может, шёпот ночной ненароком
Ты услышал, тоску затая:
«Вечно пугало ходит под боком;
Выбирай: или он, или я!..»
Ну а, может, беда откровенней,
И давно разразилась гроза,
И родня безо всяких стеснений
Презирающе щурит глаза.
Так ли, сяк ли, а чем тут поможешь?
И, конечно, я молча пройду,
Снова память печально помножив
На чужую людскую беду.
***
А жизнь начинается болью –
Кричат и ребёнок, и мать;
Её каменистою солью
Посыпана каждая пядь.
Сначала удары об угол
Дивана, стола, а затем
Настанет раздолье для пугал,
Запретных, пугающих тем.
В паденьях набитые шишки –
Пустяк, но так больно, когда
В соседнем квартале мальчишки
Отлупят, не чуя стыда.
За что? И к тому же их – трое…
Во рту – кисловатая жесть.
Слюна, напоённая кровью,
Пробудит понятие «месть».
Но всё это – мелкая рана,
Поноет, и нету следа –
В сравнении с болью обмана
От тех, кому верил всегда.
Любимая – разве обманет?
С чего ты надолго затих?
Вот эта обида не канет,
Как кануло много других…
И ежели взвоешь под старость:
За что это я осуждён? –
Припомни, с чего начиналось:
Ты был уже предупреждён.
***
В завихрениях жизненной вьюги,
Где мы тычемся слабым щенком,
В навсегда заколдованном круге
Нет порою опоры ни в ком.
Там, где предок вставал у иконы,
Исцеляя страдающий дух,
Мы городим словес терриконы,
Замутняя и зренье, и слух.
Под давленьем томящего груза
Безысходным покажется круг.
Проще тем, с кем соседствует муза,
С кем она собеседник и друг.
Долго нет от любимой конверта,
Неурядиц угрюмая рать…
И художник встаёт у мольберта,
И поэт придвигает тетрадь.
…Вот и даль открывается с кручи,
И пожалуй, что выдуман враг…
И, клубясь, раздвигаются тучи,
И слабеет, и зыблется мрак.
***
Да, жизнь, как оказалось – не музей,
Где всё застыло в позапрошлом веке.
Настало время окликать друзей,
Как Вий, взмолиться: поднимите веки!
Растерянно оглянешься вокруг:
Откуда столько юных незнакомцев?
И вдруг узнаешь: умер старый друг,
А ты не постучал ему в оконце.
Казалось, что он вечен где-то там,
По- прежнему шуткует и смеётся…
Не Антарктида и не Шикотан –
Сто раз схлестнёмся… Дудки – не придётся!
Пора писать отставку чудесам
И на минор перенастроить лиру:
Уж ежели не вечен даже сам,
То как нетленным оставаться миру?
***
Давно ли посещало вас желанье
Собрать котомку и уйти в бега –
Туда, где над какой-нибудь Еланью
В тумане тонут тихие стога?
Где не асфальт, а мурава долины,
И где не мчат – наружу языки –
В стремлениях своих неодолимы,
Бесчисленные наши земляки;
Где бабочка летит – куда захочет,
Где в травах утонула колея,
Где лишь далёкий голосистый кочет
Напомнит о присутствии жилья;
Где ни среди задумчивой поляны,
Ни даже на скрещении дорог
Не встретишь опостылевшей рекламы,
Что всюду лезет горла поперёк.
ЖИЗНЬ
Она придёт, волнуя, как загадка,
Которую ты должен разрешить.
И – этот взгляд. И губы – сладко-сладко
Вольют в тебя хмельную жажду жить.
И в радостно-бредовом ослепленьи,
Едва сдержав готовый рваться крик,
Ты благодарно рухнешь на колени
Пред тайной, что откроется на миг.
Поженитесь. И будешь по порядку
Ты ей сменять бахвальство на скулёж,
И рядом с неразгаданной загадкой
Самодовольно-сыто расцветёшь.
Лишь изредка мелькнёт: а что же с нею?
Она ли это? Или был я слеп?
И с каждым новым годом всё грустнее
Она на завтрак будет резать хлеб.
Потом неосторожным словом ранишь,
А выйдет так, что некуда больней.
Однажды утром за окошко глянешь –
И – серый день. И много серых дней.
***
Таинственная мудрость лебедей:
Завёл подругу – вместе с нею рядом
Летай и плавай, и расти детей,
Не каруселя шеей или взглядом
Вослед лебёдкам юным и вдовицам,
К побегам сладкий умысел тая…
Ах, почему не нам, а глупым птицам
Дана святая мудрость бытия?
***
Жар под сорок. Истину любя,
Мозг не дремлет, он всегда в работе.
Любопытно ощутить себя
Грудою горящей слабой плоти.
Где он, дух? От гонора уволь;
А земное ясно и понятно:
И суставов сладостная боль,
И лица горячечные пятна.
Словно я ещё не человек,
А слепой материи бурленье
В тот немыслимо далёкий век,
Что зовётся «мира сотворенье»!
Словно всюду жарко и темно
И течешь сквозь протоплазмы речку;
Словно божьей искре суждено
Или вспыхнуть, или дать осечку.
ЧИТАЯ БЛАГОВА
Порой легко скользит за словом слово –
Как из кулёчка манный порошок;
А тут – запнёшься о порог тесовый
И обомрёшь: а как же хорошо!
Да плохо ли, когда звенит от зноя
Июльский день и травы пахнут так,
Что даже в небе облачко резное
Застыло – не надышится никак.
И выверено снайперское слово,
И дышит правдой каждая строка,
«И вымя над травой несёт корова,
Пыль прошивая строчкой молока».
То подведёт к заброшенному дому,
Где лишь паук, хозяйствуя, прядёт;
А то: десяток слов – и видишь омут –
Такой, что спину дрожью поведёт.
И по приказу дара колдовского
Запомнятся на долгие года
И ветви, что, «как руки у слепого»,
И «как поминки, тёмная вода».
Стиха иного тихое журчанье
Баюкает дремотною волной;
А благовский – на перехват дыханья,
На в горле ком, на крылья за спиной.
И каждый раз не понимаешь снова:
Когда и у какого верстака
И выточил, и вызолотил слово
Орфей с обличьем парня-простака?
НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА
Пора всем биографам спятить с ума,
Взывая к безжалостным высям,
Хоть смутно представив пуды и тома
Бесценных неведомых писем.
Задумчиво порваны иль сожжены,
В дымок завиваясь упруго,
То нежные зовы неверной жены,
То письма опального друга.
Другие какой-нибудь Ванька Грязной,
С сельчанами сжегший усадьбу,
В огонь сыпанул из шкатулки резной,
Которую – Машке на свадьбу.
А, может, в карман, доверяясь уму,
Всю пачку засунул глубоко
И, жмурясь, раскуривал в едком дыму
Признанье влюблённого Блока.
…О, письма любви! Вы-то всех несохранней,
Хоть вы среди прочих: в щебёнке – рубин…
В вас каждая буква – иконкою в храме,
А храм этот – образ того, кто любим.
Вы – тайное тайных. Вас истово прячут
От жён и мужей, от себя от самих;
Твердя наизусть, поджигают и плачут,
И слёзы порой оплавляются в стих.
Так было у Пушкина. Было и будет.
И меркнуть, и гаснуть, и вспыхивать вновь.
Остынет земля, но ничто не остудит
Листы, на которых писала любовь.
***
Необозримый свод
таинственным законом,
Непостижимый нам,
живёт который год.
В сумятице ума
куда, как не к иконам,
Прибегнет человек?
И сразу воспарит
над ним защитный купол,
И армия святых
обступит, как стена;
Теперь он не один –
теперь он с ними вкупе,
И злобно сплюнет жёлчь
угрюмый сатана.
И скептика пускай
презрительна улыбка –
Он, бедный, на борту
худого корабля.
Ему и невдомёк,
как беззащитно-зыбка
Под башнями гордынь
трухлявая земля.